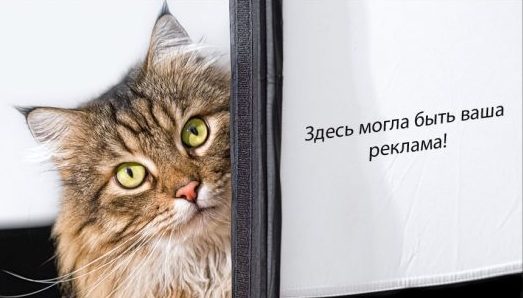Дух родимого дома

А зачем выдумывать? Зачем герои? Зачем роман, повесть с завязкой и развяз-кой? Вечная боязнь казаться недостаточно книжным… И вечная мука – вечно молчать, не говорить как раз о том, что истинно твоё и единственно настоящее… (И.Бунин)
Закрою глаза и нарисую свой дом в три окна на улицу. Рука моя, ведомая любовью, не дрогнет и не ошибется ни разу. И память тут же начнет расставлять в комнатах простенькую мебель, развешивать лампочки, люстры, занавески, шторы, раскладывать по диванам подушки.
Чуткий мой нос уловит запах дома: запах дрожжевых блинов, кипящего масла, в котором розовела, а иногда даже поджаривалась до хруста нарезанная тонкими ломтиками картошка, аромат чая с чабрецом и – как лёгкий ветерок из цветущего сада в раскрытую форточку – сладковатый запах маминой пудры «Красная Москва».
Обостренный слух выловит из общего шума-гама скрип пятой по счету от двери половицы и мышиный радостный писк под полом («Свадьбу они там играют, что ли?» — спрашивал мой отец).
Но дом – это не только запахи и звуки, но и вещи, одухотворенные людьми вещи, которые впитали дух тех, кто держал их в руках, касался их, смотрел, хранил и любил.
Душой моего дома был круглый стол. Темного дерева, с изогнутыми ножками, с фасонистыми перекладинами и «пипочкой» на месте соединения этих перекладин. Под столом можно было играть и оставлять на завтра игрушки. Можно было под ним таиться и выскакивать из-под него с восторженным криком. Можно было учить уроки за ним и болтать ногами, не доставая пола. Можно было изображать учение, а самой плести косички из бахромы плюшевой вишневой скатерти – никто за мной особенно не следил.
Над столом висела трехрожковая люстра слабо персикового цвета. Она освещала моё детство, дарила фейерверки огня и света. По вечерам, когда не стало мамы, она высвечивала в памяти любимые предметы, которые помнили мамино тепло. И возникал диван с разноцветными и разновеликими подушками. А над ним – бархатный ковер с оленями.
Оленей было трое, точнее, это была семья. Красавец-олень с роскошными рогами на переднем плане. За ним – пугливая олениха, а рядом с ней олененок. Позади, среди ветвей, листьев и экзотических красных цветов виднелась мельница и невеликая речка.
Этот ковер мама привезла из Грузии в начале 70-х, взамен утраченного от старости другого ковра, тоже с оленями. Он многое помнил…
На полотне примерно метр на два, на бархатистой зеленой основе коричневой краской был нарисован олень в профиль. За ним красовалась олениха с малышом.
Олень был мне не только другом: мы с ним ели кашу – одна ложка в мой раскрытый рот, другая – в красиво очерченный закрытый рот оленя (кто знает, скольким родственникам мы обеспечили долголетие – сколько каш и картофельного пюре было съедено за их здоровье! «За папу, за братика Витю, за крестную Натусю, за бабушку Анисью, ну, а теперь за меня», — приговаривала мама, пихая еду то в мой, то в олений рот).
Но не только за совместную трапезу мне дорог тот олень, но и за то, что служил он анатомическим пособием. «Где у оленя глазки? А ушки? А хвостик?» — интересовались не знающие этого взрослые, и я со знанием дела показывала.
Я выросла, ковер истрепался и на его месте появился другой. Тот самый, из Грузии. Теперь он в музее.
Среди дорогих мне вещей – старинная этажерка, в тумбочке которой можно было строить свой собственный домик, оставлять автографы с дружеским шаржем, а на трех горизонтальных полках расставлять фарфоровые статуэтки – балерин, затягивающих ленты пуантов, собак с добрыми глазами, куколок, держащихся за краешек юбки.
Деревянный сундук с железными уголками тоже стоит в моей самой дальней спаленке. Он утратил свою былую функцию и стоит просто так. Как память. А когда-то в нем, среди блёстков нафталина, хранилась мамина шуба из котика.
Кто такой котик я не знала. Но любила накидывать (Еле-еле! Шуба-то тяжелая!) на себя блестящий, с отливом, мех. Он одинаково легко справлялся с образами большой кошки («котик» ведь!); бурки до полу на плечах; потерявшейся девочки, которая спасается в чуме. Я уж не говорю о всяких колдуньях и волшебницах. Потом шуба стала согревать приболевшего или просто уставшего.
Потом, уже после мамы, она незаметно исчезла из опустевшего дома. Как китайские молочники, сахарницы, заварники – они так красиво были украшены дивными лепестками по длинным своим шеям!
Кроме стола, этажерки, сундука и платяного шкафа, которому много лет, но который совершенно преображается, если его потереть сухой бархоточкой, мало что сохранилось. Но они – знаки моего дома, отпечатки его души, которая понятна и близка мне до самого донышка и живет вместе со мною в ладу. Я люблю их запах, прикосновение к их когда-то налаченным бокам, их тепло настоящего дерева, их память. И мы вместе с ними бережём и сохраняем дух родимого дома. Пусть даже на ином месте.
Зоя Соколова